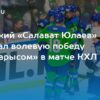Гениальность Владимира Крутова не подвергается сомнению, несмотря на прошедшее время, не самое успешное завершение карьеры и дискуссии о том, был ли он лучшим левым крайним нападающим в истории отечественного хоккея.
В истории хоккея было много выдающихся крайних нападающих. Каждый из них уникален, будь то Анатолий Фирсов, которым восхищался юный Володя Крутов, или Валерий Харламов, который увидел в нем родственную душу и стал его другом. Владимир Евгеньевич сам равнодушно относился к любым рейтингам и сравнениям с игроками других эпох, считая это бессмысленным занятием. Это не значит, что он не осознавал свою ценность, просто его скептическое отношение к своему месту среди великих объяснялось скромностью, которая, пожалуй, была его главной чертой характера.
Возможно, у него не было безупречной логики Ларионова, изящной техники Макарова, непоколебимой уверенности Фетисова или сокрушительной мощи Касатонова. Однако с его рабочей смекалкой, голевым чутьем, неудержимостью и бесстрашием он был абсолютно незаменим в почти совершенном механизме легендарной пятерки. Их игра часто сеяла панику среди соперников и всегда завораживала зрителей.
Безусловно, говоря о Крутове, невозможно не вспомнить всю тройку, а затем и всю пятерку – возможно, лучшую в истории мирового хоккея, и уж точно самую известную по длительности существования и совместной игры на высочайшем уровне. Но Крутов ярко проявлял себя и до формирования этого суперзвена: на юниорском, молодежном уровнях, в национальной сборной и в ЦСКА с разными партнерами. С Ларионовым они нашли общий язык еще в юниорской сборной, с Касатоновым были лидерами молодежной команды, а с Макаровым блистали на чемпионате мира 1981 года под руководством опытного Владимира Петрова. То есть, Крутов был полноценной звездой и до эпохи «великой пятерки». Однако такой системный тренер, как Виктор Тихонов, не признавал гениальных одиночек, он всегда мыслил комплексными категориями.
Владимир вырос в простой рабочей семье: отец был фрезеровщиком, мать – поваром в детском саду. На коньки он встал в четыре года, а в хоккейную секцию на стадионе «Метеор» пошел за старшим братом Александром. С десяти лет играл с ребятами на два-три года старше. Тренер Владилен Голубев направил его в школу ЦСКА, где его хоккейным развитием занимались Валерий Стельмахов и Юрий Чебарин. Уже к середине 70-х в ЦСКА понимали, что растет будущая звезда.
На юниорский чемпионат Европы 1978 года он поехал школьником, имея за плечами всего один матч в основе ЦСКА. Но в Финляндии он поразил всех, став лучшим бомбардиром турнира. Хотя сборная Виталия Ерфилова заняла лишь второе место после хозяев, «долг» был возвращен на молодежном чемпионате мира в Швеции, который выиграла сборная Виталия Давыдова. Этот турнир также стал триумфом Крутова – он снова стал лучшим бомбардиром и лучшим нападающим. Приз самому ценному игроку тогда не вручался, но было очевидно, кто его заслуживает.
В 19 лет Крутов блестяще завершил молодежный этап карьеры выступлением на чемпионате мира в Хельсинки, где победу сборной Юрия Морозова во многом обеспечила его связка с Ларионовым. Они ассистировали друг другу в игре с чехословаками, а в решающем матче со шведами Крутов сначала сравнял счет, а затем забил победный гол. Он набрал столько же очков (11), как Яри Курри, но забил больше шайб – семь против четырех. Месяцем позже Владимир мог стать звездой Олимпийских игр в Лейк-Плэсиде. Их звено с Александром Мальцевым и Юрием Лебедевым смотрелось отлично, вытащив тяжелейший матч с финнами (гол Крутова при счете 1:2 и передача на победный гол Мальцева). Но Виктор Тихонов больше доверял лидерам, которые в решающей игре против США выступили неудачно. Речь, конечно, о знаменитом американском «чуде на льду».
После «чуда на льду» Крутов сыграл за сборную 11 матчей в одном звене с Михайловым и Харламовым. На Призе «Известий» он выступал в трех разных сочетаниях, в том числе с Макаровым и Жлуктовым. Перед чемпионатом мира 1981 года место центрфорварда в их тройке занял Владимир Петров, завершавший карьеру.
Словно сама судьба указывала Тихонову, как собрать ключевой элемент его системы. Последним в ЦСКА появился Ларионов. Осенью 1981 года на Кубке европейских чемпионов они с Макаровым и Крутовым вышли на новый уровень взаимодействия, что подтвердилось на легендарном Кубке Канады, где сборная СССР разгромила хозяев со счетом 8:1. Пятый гол, забитый Крутовым (после гола Ларионова и хет-трика Шепелева), стал самым ярким моментом в клипе, показанном на церемонии введения новых членов в Зал славы ИИХФ в мае 2010 года. Этот гол был забит в меньшинстве, после контратаки: Крутов обыграл Ги Ляфлёра на замахе, а дальше все было делом техники. Владимир Евгеньевич, естественно, никак не комментировал этот шедевр. Он вообще промолчал на том торжественном мероприятии, словно спрашивая: «Что тут скажешь?»
Он не любил бурно праздновать забитые шайбы. В одном из редких интервью он сказал что-то вроде: «Слесарь, выточив деталь, не рвет же спецовку на груди от радости?» Уговорить Владимира Евгеньевича на откровенные рассказы или истории «из прошлого» удавалось немногим – он избегал публичности и тем более саморекламы. Его и в Зал славы ИИХФ ввели последним из легендарной пятерки. Но он не жаловался по этому поводу; если бы он посетовал, это был бы уже не Крутов. Он всегда оставался абсолютно естественным во всех своих проявлениях. Партнеры ценили это – каждый из них был со своим характером, и в их отношениях случалось всякое, но «Крут» с его простодушием, честностью, самоотдачей и не показной скромностью всегда был и оставался «Вовой», неким связующим звеном их товарищества. Коренной москвич, в этой необычной и непростой компании великих он был «великим молчуном» и классическим «провинциалом» в самом лучшем смысле этого слова. Искренние болельщики тех лет интуитивно чувствовали в Крутове близкую натуру: ловок в деле, предан в дружбе, не бросает слов на ветер – с таким человеком можно идти и в разведку, и просто приятно провести время.
Великий Николай Георгиевич Пучков, говоря о своем поколении, отмечал: «Мы были простые, но не простенькие». Эта фраза применима и к Харламову, и к Крутову. Владимир Евгеньевич корил себя за то, что полетел на Кубок Канады 1981 года вместо Харламова, потому что слишком быстро восстановился после сотрясения мозга. Но это было напрасно, его вины в той трагедии не было. Не он принимал это решение, дальше вмешалась судьба.
Казалось бы, несовместимые качества – «напор и изящество», «рациональность и выдумка» – и составляли секрет таланта Владимира Крутова, которого Анатолий Тарасов считал сильнейшим форвардом отечественного хоккея. Тарасов также особо отмечал затаенную печаль в глазах Крутова:
Того, что в избытке было у Владимира Крутова на льду – уверенности, способности адаптироваться к игре, – часто не хватало ему в жизни. После потрясений рубежа 90-х, когда жизнь развела его партнеров, каждый из них с разной степенью успеха находил силы изменить себя, приспособиться к новым обстоятельствам и приспособить их к себе. Крутов меняться не хотел, да, наверное, и не мог. Цельность его натуры вошла в конфликт с новой реальностью. Неслучайно его игровая карьера пошла на спад одновременно с распадом Советского Союза.
Осенью 1989 года он приехал в «Ванкувер» после долгого увольнения из армии и вынужденного летнего простоя, абсолютно не в форме. От него требовалось не только играть на прежнем высочайшем уровне, но и принять новые условия жизни. Но великий Крутов, казалось бы, идеально подходящий для НХЛ, органически не мог слепо следовать новому укладу. Душой он оставался дома, в своей стране, в своей команме, со своими партнерами. Брайан Бёрк в своих мемуарах назвал Крутова «деревенщиной», что в русском переводе звучит еще грубее – «колхозником». Но «колхозный хоккей» по Тарасову – это хоккей коллективный, а не примитивный. То, что Крутов не оправдал ожиданий в «Ванкувере» (его статистика там действительно не соответствует его уровню), не вина исключительно самого хоккеиста. Просто в Канаде для него всё было чужим: быт, язык, сама игра, а также необходимость тащить на себе очень среднюю команду. Да, Ларионов в том же Ванкувере адаптировался быстрее и успешнее, но они были слишком разными, чтобы у них все получалось одинаково. Руководство «Ванкувера», разрывая контракт, сослалось на лишний вес, не учитывая его особенностей телосложения (лишний вес у него был всегда, сравнение с Винни-Пухом, придуманное Александром Нилиным, неслучайно), не говоря уже о менталитете. Игровые проблемы проистекали из нежелания или неспособности приспосабливаться, ломать себя, что было абсолютно не в его характере. Упрекать Владимира Евгеньевича в недостатке амбиций или пробивной силы – всё равно что упрекать птицу в неумении ползать. Он просто не мог по-настоящему вписаться в новую эпоху. Это чувствовалось и позже, в Швейцарии и Швеции, хотя и в меньшей степени, чем в Канаде. Эти сезоны он не считал потерянными: много забивал, отдавал передачи, увидел мир.
Казалось, его лицо полностью состоит из шрамов. На сердце их, наверное, было не меньше. Но об этих сердечных шрамах знали немногие, лишь жена Нина и самые близкие. На телесные отметины можно было не обращать внимания. А те, что на сердце, свели Владимира Евгеньевича в могилу в 52 года. Вероятно, даже с проблемами со здоровьем он прожил бы дольше, если бы чувствовал себя востребованным. Да, у него была работа, игры в составе «Легенд хоккея», круг общения, спокойная семейная жизнь, но…
В последний год, как отмечали близкие, взгляд Крутова казался особенно печальным. Или, возможно, им просто так казалось.
Досье
Владимир Евгеньевич Крутов
1.06.1960 — 6.06.2012
Заслуженный мастер спорта (1981)
Карьера игрока: 1977-89 — ЦСКА, 1989/1990 — «Ванкувер», 1991/1992 — «Цюрих» (Швейцария), 1992-95 — «Эстерсунд» (Швеция), 1995/1996 — «Брунфло» (Швеция).
В чемпионатах страны 439 матчей, 288 заброшенных шайб. В НХЛ — 61 матч, 11+23. В чемпионате Швейцарии — 38 матчей, 20+29. В первом шведском дивизионе — 55 игр, 27+31, во втором дивизионе — 37 матчей, 32+33.
За сборную СССР — 439 игр, 156 голов. На олимпийских турнирах и чемпионатах мира — 90 матчей, 59+48. В Кубке Канады — 22 игры, 14+16. За юниорскую и молодежную сборную СССР — 16 матчей, 21+17.
Достижения: олимпийский чемпион (1984, 1988), серебряный призёр (1980); чемпион мира (1981-83, 1986, 1989), серебряный (1987) и бронзовый (1985) призёр. Обладатель Кубка Канады (1981); чемпион мира среди молодёжи (1979, 1980), серебряный призёр чемпионата Европы среди юниоров (1978).
Лучший нападающий чемпионата мира (1986, 1987), член символической сборной (1983, 1985-87), лучший бомбардир олимпиады (1988) и чемпионата мира (1987).
Чемпион СССР (1979-89). Лучший хоккеист СССР (1987); в символической сборной сезона (1982-88).
Член Зала славы ИИХФ (2010), Зала славы отечественного хоккея (2011).
Награждён орденами Дружбы народов (1982), Трудового Красного Знамени (1988), Почёта (2011), медалью «За трудовое отличие» (1981).
Карьера тренера: 1996-2001 — ЦСКА, с 2002 года — директор Государственной школы высшего спортивного мастерства.